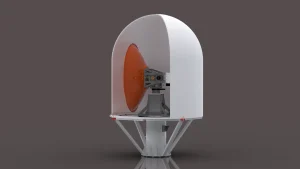Директор Департамента цифровой энергетики и коммерческого диспетчирования АО «Концерн Росэнергоатом» Любовь Андреева рассказывает о том, какие изменения неизбежно ждут Концерн как участника рынка, какие преобразования нужно осуществить в добровольном порядке, чтобы не пришлось делать их принудительно, под давлением внешних обстоятельств.
– Как сегодняшние и перспективные изменения в управлении сетевой инфраструктурой могут изменить подход к управлению процессами генерации на энергоблоках (режимы турбогенератора, реакторной установки, проблемы маневра мощностью и пр.)?
– Изменения в управлении сетевой инфраструктурой энергосистемы – возможно, важнейшие изменения в цифровой трансформации отрасли. Укрупненно сети можно разделить на магистральные напряжением 220 кВ и выше и распределительные сети напряжением до 110 кВ. Общая балансировка энергосистемы, выдача мощности крупных электростанций, связь энергосистем страны – это магистральные высоковольтные сети. Если в процессе цифровизации этих сетей будут оптимизированы перетоки мощности по ним, будет увеличена их пропускная способность (из-за появления возможности рассчитывать в реальном времени их пропускной способности), то это, безусловно, повысит эффективности работы электростанций и энергосистемы в целом. В распределительных сетях 35 кВ и ниже, конечно, большие потери электроэнергии в процентах, и в том числе поэтому в них же и наибольший эффект от создания интеллектуального учета электроэнергии. Именно эти сети ближе всего к конечному потребителю, в этих сетях видна роль баланса спроса и предложения. В распределительных сетях происходит включение различных распределенных энергоресурсов, в том числе ВИЭ, солнечных фотоэлектрических и аккумуляторных батарей. В процессе энергетического перехода возрастает роль распределительных сетей, на них оказывается самое большое влияние изменений, включаются ВИЭ, накопители, в них появляется розничная генерация.
Поэтому изменение управления сетевой инфраструктурой за счет цифровизации должно привести к более быстрому отклику предложения на изменение спроса, и этот отклик будет происходить на уровне распределенных источников энергии, максимально близких к потребителю. Здесь же будет развиваться механизм управления спросом на электроэнергию (ценозависимого управления потреблением): потребитель перестанет быть пассивным элементом в энергосистеме и начнет управлять своим потреблением, используя технологии промышленного «Интернета вещей», накопители энергии, собственную генерацию. Таким образом, можно говорить о выравнивании общего графика потребления в энергосистеме на уровне суток, недели, месяцев. А выравнивание графика потребления создает более выгодные условия для работы крупных электростанций, особенно таких, как неманевренные АЭС. Маневренная работа АЭС – это дополнительные затраты на эксплуатацию.
Вторым трендом в энергетике из-за цифровизации будет рост потребления, несмотря на постоянно возрастающую энергоэффективность. Мировой тренд – это электрификация: уход от использования ископаемого топлива при производстве тепловой энергии и в скором будущем на транспорте. Мазут или уголь? Электричество! При выборе транспорта на бензине или дизеле выбор будет в пользу электротранспорта. И поэтому, несмотря на серьезный рост технологий энергоэффективности и энергосбережения, общий уровень потребления электроэнергии будет возрастать. Кстати, сама цифровизация экономики тоже требует электроэнергии: это энергоемкие центры обработки данных, без которых цифровизация страны невозможна.
– Каковы возможные «уточнения в ТЗ» на проектировании новых энергоблоков, которые могут быть инициированы на основе изменений, связанных с цифровизацией сетевой инфраструктуры?
– Вопрос про «уточнения в ТЗ» на проектировании новых энергоблоков АЭС очень правильный и своевременный. Но он актуален не из-за изменений в управлении сетями, а из-за изменений в отрасли в целом. Сегодня формируются требования к новым энергоблокам АЭС, которые введут в эксплуатацию в ЕЭС России, например, через шесть–восемь лет. Конечно, хотелось бы вписать новые требования на системы прогностики и диагностики оборудования или к цифровым распределительным устройствам, которые в принципе не дают аналоговых сигналов по меди, а сразу цифру. Но мы еще не получили опыт работы с этими решениями и не можем быть уверены в правильности требований к ним. Поэтому сначала нам надо изучить, потом внедрить, затем получить опыт эксплуатации и только после этого говорить об изменениях к требованиям на энергоблок АЭС. Цифровизация – это лишь инструмент для создания взаимодействия в реальном времени между производителями электроэнергии, операторами сетей и конечными потребителями. За счет обмена оперативной информацией в режиме реального времени между генерирующим, сетевым и потребляющим оборудованием в любой точке энергетической системы и эффективностью в каждом секторе возрастает, повышается надежность электроснабжения и снижаются затраты, поскольку потребители и производители начинают мгновенно реагировать на меняющиеся рыночные условия.
– Какие изменения в плане цифровизации принимаются коллективом Концерна с легкостью, какие – со сложностями; каковы объективные и субъективные причины сопротивления и как это решить?
– Мне кажется, руководители и большинство сотрудников Концерна признают и понимают необходимость цифровизации. С легкостью ни одно изменение и предложение не проходит в план цифровизации. Принимаются, но с трудом, пожалуй, три категории идей цифровизации. Первая, это те, которые очевидно помогут решить уже серьезно назревшую проблему или давно существующую задачу. Вторая категория – это инициативы, которые уже сделали или делают другие генерирующие энергокомпании в России или другие компании – операторы АЭС в мире. Тут происходит апелляция к чужому опыту. Третья категория идей, которые принимаются коллективом Концерна, это идеи небольших пилотов, но не капиталоемких. И вот тут зачастую возникают сложности: вкладывать деньги необходимо в эффективные мероприятия, а на пилоте эффект от его реализации может быть не тем, который готова принять наша компания.
С сопротивлением идут любые изменения, которые либо меняют подход к эксплуатации того или иного оборудования и требуют обучения персонала и сотрудников, либо меняют существующие технологические и бизнес-процессы и требуют изменений в управлении конкретными руководителями. А эти изменения зачастую и есть наиболее важные и необходимые.
Как снять субъективные и объективные причины сопротивления? Субъективные – через обучение новым цифровым технологиям, через изучение возможностей цифровизации в отрасли и у аналогичных нашей компаний, через обсуждение возможностей цифровизации на открытых площадках. Объективные причины сопротивления снимать и не нужно: эти причины нужно учитывать в реализации инициатив по цифровизации. Как раз очень важно эти риски увидеть в начале пути, признать их и сформировать подход к их устранению или управлению ими. А вообще, честно говоря, в любой компании легче всего принимаются идеи цифровизации в других подразделениях. Цифровизация внутри своего департамента или подразделения всегда не нравится, всегда упирается в две проблемы: нежелание перемен и страх ненужности людей после успешной цифровизации. И в этом случае только изменение себя самих и обучение могут сделать людей нужными и важными для бизнеса и вывести их на другой уровень компетентности.
– Какие изменения в Концерне опережают ситуацию в сетевой инфраструктуре страны, а в чем ситуация опережает нас?
– Сложно сравнивать сетевые и генерирующие компании. Сети в нашей стране – это 2,3 млн километров линий электропередачи и почти 500 тысяч подстанций. Но при этом оборудование в эксплуатации только то, которое у нас является частью распределительных устройств АЭС: трансформаторы, выключатели, кабельные и воздушные линии. А на каждой АЭС кроме этого оборудования эксплуатируют ядерные реакторы, турбогенераторы, вспомогательное тепломеханическое и электрическое оборудование, паропроводы и трубопроводы, сотни других систем и типов оборудования. Поэтому создание, например, «цифрового двойника» электрической подстанции и атомной электростанции – это несопоставимые по размерам, сложности и длительности реализации задачи.
Или задача, поставленная Министерством энергетики РФ, – переход на ремонты по состоянию вместо плановых ремонтов. Очевидно, сетевые компании могут решить ее в обозримом будущем, как указало Минэнерго России, к 2025 году. В отношении АЭС в целом это задача на сегодняшний день может быть решена только лишь в части определенного электротехнического оборудования.
Сложно сравнивать, кто из компаний и в чем обогнал партнера или конкурента. Разные технологии приносят разные эффекты разным энергокомпаниям. Оценивать прогресс от внедрения цифровых технологий логично на основе оценки повышения эффективности своего основного бизнеса или на основе появления новых или сопутствующих бизнесов в процессе цифровизации. Кстати, в части формирования новых бизнесов в электроэнергетической отрасли сейчас как никогда большие возможности для каждой энергокомпании, и мы ими планируем воспользоваться.
Алексей Комольцев для журнала РЭА