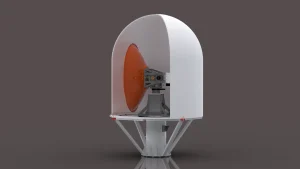Сергей Обозов доложил Президенту России в ходе совещания о применении опыта Производственной системы Росатома в условиях пандемии для оптимизации процессов госпитализации, производства и распределения вакцины, документирования необходимых процедур
В противодействии пандемии нам была уготована роль МЧС. Неопределенность, что сложилась к 25 марта 2020 года, с подачи руководителя отрасли и Сергея Кириенко для нас быстро сменилась определенностью, а удаленка – «приближенкой». Мы помним с весны (лучше бы забыть) очереди скорых по восемь часов. Говоря откровенно, это воспринималось как начало войны; все стандарты мирного времени, в том числе медицинские, оказались неэффективны в новых условиях. Надо было с нуля и очень быстро сделать и внедрить совершенно новые, боевые стандарты.
Мы сразу оказались на передовой, оценили ситуацию и стали работать со всей цепочкой: чтобы скорая помощь быстрее выехала, чтобы меньше простояла. Работали с пропускной способностью приемных отделений, чтобы пациенты в десять раз меньше ждали, а с тяжелой формой госпитализировались быстрее. Множество задач выполнялось одновременно. Мы предложили, чтобы время от звонка пациента до госпитализации составлял не 11, а два часа, то есть сократился в пять с лишним раз.
Целый пласт работы был выполнен по производственным предприятиям, где с нуля потребовалось развернуть производство нужной продукции. Например, наладить за две недели в Коврове производство средств индивидуальной защиты вместо матрасов. Производство дезинфекторов воздуха на заводе в Нижнем Новгороде было развернуто с нуля за три недели (как когда-то танки Т-34 на Красном Сормове во время Великой Отечественной). Все задачи, которые перед нами ставил Минпром, мы тоже выполнили. Пришлось налаживать множество новых процессов, предприятия Росатома продолжали работать. Очереди в проходных: первые неприятности. Мы быстро отреагировали: сделали картирование и хронометраж, чтобы проходить осмотр как можно быстрее Отработали, как оперативно брать пробы, делать тесты. Это тоже новая процессная модель, которой раньше не было. Сформировав стандарты, немедленно отдавали их в работу. Вся работа тут же упаковывалась в методики, в «боевые» стандарты, которые распространялись в регионы.
19 июня мы вместе с Алексеем Лихачевым доложили Президенту РФ о выполненной работе.
Только в конце лета мы успели вернуться к работе, но началась вторая, осенняя волна и быстрый призыв о помощи из тех же точек. К сожалению, как показал выборочный аудит Минздрава России, наши рекомендации были выполнены лишь на 20–30 %. Это нас не удивило, поскольку и ПСР в свое время на наших предприятиях внедрялась непросто. По распоряжению Правительства РФ в составе групп Минздрава наши представители выехали в регионы; всего объехали 16 регионов в четыре этапа. Интересно, что применили русскую модель управления: от Минздрава – «командир», а от нас – «процессный комиссар». На месте «командир» изучал административную часть, а мы – процессную. Как только видели проблемы (в стационарах, на скорой помощи, в колл-центре, при тестировании), немедленно открывали проекты (всего в 16 регионах открыли 82 проекта). Когда «командир» (представитель Минздрава) уезжал, комиссары оставались недели на две, убедиться, что результаты достигнуты. Все наработки быстро оформляли в «боевые» стандарты, которые тут же через Минздрав шли в тираж на все регионы России. Эта же работа транслировалась и в наши города присутствия: сокращали маршруты, время, очереди.
Возникла необходимость существенно сократить срок производства и распределения вакцины, увеличить объем выпуска; для экспорта вакцины требуется регистрация, а следовательно, подготовительная работа. Мы также приступили к этим задачам. До шести раз повысили производительность в Центре микробиологии имени Гамалеи, нашем главном производителе, применив нестандартные решения. Смогли втрое сократить время подготовки регистрационного досье на эту вакцину, чтобы можно было ее экспортировать. Самое сложное: выстроили весь сквозной поток от розлива до вакцинации, сократив его со 105 до 36 дней, то есть втрое. Это критично, потому что новая вакцина (Центр им. Чумакова), которая скоро будет выпущена в оборот и может храниться при менее жестких условиях, имеет срок годности всего два месяца, а не шесть, как у «Спутника V», хранящейся при минус 18 градусах. Понятно, что при полной процессной цепочке в 105 дней, как сегодня, мы не сможем ни довезти, ни распространить ее: важно добиться срока в 36 дней на полную цепочку, чтобы 20 дней иметь в запасе. Все это мы не сумели бы так быстро сделать, если бы не опирались на опыт наших производственных ПСР-проектов. Так, именно полученный на производствах ТВЭЛ опыт стал определяющим для сокращения процессов в Центре Гамалеи.
Хотя проведена огромная работа, это не значит, что наша отраслевая Производственная система целиком была мобилизована для страны. По моим подсчетам, на весеннем и осеннем пиках примерно 25% наших кадров работали по «ковидной» задаче; остальные три четверти продолжали работать на отрасль. Многие из тех, кто налаживал работу в медицине, переболели, к счастью, без потерь. Если в первую волну мы еще работали на границе «красных зон», во вторую волну процессные комиссары уже работали в «красных зонах», тем более что уровень антител от общения с больными повышался (информация должна быть подтверждена научно, но есть наблюдения, что у работавших в «красных зонах» поддерживается высокий уровень антител).
У Производственной системы Росатома японские корни, многое мы позаимствовали из системы бережливого производства компании Toyota. Но мы сформировали наш, российский метод, который, по всей видимости, будет сложно применить где-то за пределами нашей страны. Страны с высоко регламентированной производственной культурой, скорее всего, на длительное время погрузились бы в растерянность. Но именно русский опыт и характер, опора на русские культурные коды позволила нам выстроить нашу российскую производственную систему.
На пике пандемии волонтеры Росатома присоединились к всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ; Росатом поделился со страной своими технологиями. Это стерилизация тест-систем, которые необходимы для сдачи анализов на COVID-19; разработка и вывод на рынок приборов «Тианокс», вырабатывающих из воздуха оксид азота (его применяют при реанимации больных тяжелой формой COVID-19). По словам директора НПЦ физики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Виктора Селемира, в НМИЦ им. В.А. Алмазова, используя это оборудование, «вытащили с того света» до 75% больных, которых иными методами спасти было невозможно. Для медицинских учреждений Росатом закупил 192 аппарата искусственной вентиляции легких, другое медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млрд руб. Еще атомщики поделились опытом оптимизации рабочих процессов. Президент России Владимир Путин отметил: «Росатом вместе с Федеральным медико-биологическим агентством в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Белгороде создали систему от звонка пациента в скорую помощь до первого назначения врача в стационаре… она позволила заметно сократить время до начала оказания медицинской помощи больным».
Алексей Комольцев для журнала РЭА (по материалам доклада)