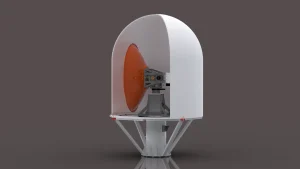Александр Михальчук, заместитель директора ВНИИАЭС-НТП, директор отделения физических расчетов и режимов, работает в отрасли с 1976-го, а во ВНИИАЭС – с 2006 года. В интервью журналу РЭА он рассказал о том, какие задачи в меняющемся атомном мире решает институт, какие проблемы ждут своего внимания
– Александр Васильевич, что представляет собой отделение физических расчетов и режимов, какие задачи решаются в настоящее время и как эволюционирует организация?
– В отделении физических расчетов и режимов шесть подразделений, задача первого и старейшего из них – выполнение нейтронно-физических расчетов для РБМК. Обоснование безопасности по физическим свойствам активных зон реакторов выполняет главный конструктор – НИКИЭТ, но мы также проводим расчеты для подтверждения результатов их расчётов. Наше подразделение разработало специальные расчетные коды, которые приняты и аттестованы, результаты признают и НИКИЭТ, и научный руководитель проекта Курчатовский институт. Вся эта деятельность является неотъемлемой частью сопровождения эксплуатации блоков РБМК, и работа будет продолжаться, пока эти блоки действуют. Тема приобрела особое значение, поскольку срок активной эксплуатации этих установок подходит к концу, и первый блок Ленинградской АЭС уже выведен из режима генерации. Но для блоков РБМК, которые продолжают эксплуатироваться, необходимо выполнять корректировку нейтронно-физических характеристик с учетом изменений и модернизаций в графитных кладках реакторов.
Другое подразделение выполняет нейтронно-физические расчеты для реакторов ВВЭР; эти работы также ведутся уже на протяжении десятилетий. Они подтверждают качество вычислений нейтронно-физических характеристик для топливных загрузок, которые выполняются расчетчиками в отделах ядерной безопасности на действующих АЭС. Оба названных подразделения (РБМК и ВВЭР) периодически проводят обучение физиков-расчетчиков, которые трудятся на АЭС, и проверяют уровень их подготовки.
В отделении есть департамент, который выполняет на этапе пусконаладочных работ экспериментальное определение нейтронно-физических характеристик активных зон вновь пускаемых блоков АЭС с ВВЭР для проверки этих характеристик на соответствие требованиям проекта, норм и правил по безопасности, а также проверки эффективности системы управления и защиты реакторных установок блоков АЭС. В ближайшее время в стране пуски новых блоков (после № 6 ЛАЭС) не планируются, ожидается пауза до начала пуско-наладочных работ блока ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2.
Отдельный департамент занимается оптимизацией эксплуатации турбинных установок блоков с реакторами ВВЭР; эта работа проводится совместно с действующими АЭС, департаментами Концерна, заводами-изготовителями. В результате оптимизируются характеристики работы турбогенератора, повышается надежность, отказоустойчивость.
Один из департаментов специализируется на оптимизации работы блоков АЭС по различным направлениям, в том числе по увеличению длительности топливных кампаний. Работа проводится совместно со многими проектно-конструкторскими организациями; она учитывает не только специфику работы топлива, но и оценку надежности оборудования в увеличенный межремонтный период. Необходимо выполнять дополнительные обоснования безопасности, модернизацию оборудования.
Еще один департамент занят работами по обеспечению водородной безопасности. Это направление доказало актуальность после аварии на АЭС «Фукусима». Были проработаны меры, чтобы при запроектных тяжелых авариях предупредить горение и взрыв водорода. Составлена комплексная программа повышения водородной безопасности для блоков АЭС Концерна, которую мы как генеральный подрядчик выполняем уже три года. Проходят аттестацию новые коды расчетных обоснований безопасности, которые позволят детально описывать процессы на блоках АЭС с ВВЭР, оценивать меры противодействия. Это и использование поглощающих водород пассивных каталитических рекомбинаторов, и другие меры, позволяющие избежать горения и взрыва водорода.
– Какие работы сегодня наиболее актуальны для развития ВНИИАЭС и нужны отрасли?
– Прежде всего, разработка программного комплекса «Виртуально-цифровая АЭС»; этим направлением занимаются два отделения ВНИИАЭС, в том числе наше. Назначение этого программного комплекса – посредством «цифровых двойников» блоков АЭС моделировать нормальные, переходные и аварийные процессы, проверять добротность проекта в различных режимах. Мы используем супер-ЭВМ, которая позволяет в приемлемое время просчитывать сложные аварийные процессы; работа проводится совместно с институтом ИБРАЭ РАН. Мы уже неоднократно демонстрировали работу виртуально-цифровой АЭС и планируем, что через некоторое время сможем предоставить услуги для проверки качества проектов заинтересованным организациям. В их числе наши проектные институты, надзорные органы, другие организации отрасли. Развивая проект «Виртуально-цифровая АЭС», мы действуем в русле направления цифровизации, которое объявлено и в стране, и в отрасли, чтобы перейти на качественно иной уровень реализации проекта. Идея о возможной поставке «виртуальной АЭС» в виде «коробочного продукта» имеет хорошие перспективы. Любая страна-новичок, получая модель действующего блока АЭС новейшего поколения, захочет учиться, экспериментировать, она приобретает огромный импульс для дальнейшего развития своей мирной ядерной программы.
Актуальное направление, предложение о котором мы подготовили в Росатом, – идея создания комплекса программ, позволяющих перейти на новом уровне к управлению авариями с применением методов нейросетевого программирования. До сих пор принят рутинный «бумажный способ», заложенный в 1980-х годах после аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» и переданный нам. С тех пор операторы вынуждены рассчитывать на управление аварией, листая инструкции с алгоритмами; алгоритмы просчитаны и обоснованы, но инструкции насчитывают сотни листов. Возможна реализация более прогрессивных методов управления с помощью искусственного интеллекта, когда программный комплекс в течение минут определяет тип аварии, предлагает эффективные способы управления оборудованием для преодоления последствий аварии. Если действия оператора не блокируются, то можно оценивать выполняемые действия на предмет их эффективности для процесса управления аварией, осуществлять функции поддержки принятия решений. Полагаем, что в случае практической реализации этих предложений сможем сделать существенный вклад в повышение безопасности блоков АЭС.
Еще одно актуальное направление – участие в НИОКР совместно с нашими основными партнерами – Гидропрессом, Курчатовским институтом, Атомпроектами. Мы во всех НИОКР по тематике ВВЭР привносим свой вклад опыта эксплуатации. Это оптимизация перечня испытаний на пусках блоков при вводе в эксплуатацию, при регламентных испытаниях; разработка методики обоснования пределов и условий безопасной эксплуатации, оптимизация эксплуатации оборудования второго контура и др. Разрабатываем инициативные предложения, которые представляем в Росатом как «аванпроекты», доказательство целесообразности новых НИОКР, разработки технических заданий на такие работы.
– В отрасли опробуются новые концепции, такие как «Прорыв», замыкание топливного цикла, разработка АЭС малой мощности, дальнейшая оптимизация топливного цикла и т. д. В какой мере вы погружаетесь в такую «поисковую» работу?
– Начнем с АЭС малой мощности. Характерный факт: в мае этого года научным руководителем направления «Атомные станции малой мощности» (АСММ), приоритетного научно-технологического развития для Росатома, назначен наш коллега, научный руководитель АО «ВНИИАЭС» Сергей Соловьев. Мы готовим НИОКР по нормативной базе для проектирования и экспертизы проектов АСММ. Это, безусловно, востребованное в мире направление, им активно занимаются многие страны. Мы сегодня обоснованно говорим о приоритете ПАТЭС, именно у нас построен этот головной образец АСММ. Головная ПАТЭС во многих аспектах – это повторение инженерных решений, свойственных судну. Будь это военный атомоход или ледокол, для него характерно следующее: имеются две реакторные установки, для поддержания жизнедеятельности достаточно одной. Если другая реакторная установка посреди Мирового океана остановилась, этого никто не замечает, кроме экипажа, останов не сказывается на работе объектов народного хозяйства на берегу. Судовые реакторы ведь не включены в сеть, Системный оператор не видит в ту же секунду «отвалившуюся» генерацию.
В обычной атомной энергетике многое совпадает, но кое-что и отличается. Любая проблема блока АЭС (даже неплановое снижение мощности) сразу на виду у всей страны, у нас другая оплата, мы меньше привязаны к единственной точке. На наш взгляд, придется многое дорабатывать в регламентах эксплуатации малых АЭС; в последующих поколениях таких установок, может быть, стоит отказаться от ряда аспектов, унаследованных от судостроения. Насколько серийный блок оправдан именно как плавающий, не лучше ли схема жестко закрепленного к капитальным гидротехническим сооружениям дебаркадера? Полагаю, будущие АСММ – это легкие в транспортировке модули, автономные установки с минимумом эксплуатационных хлопот. Надо привносить в проектирование принципы, обеспечивающие большую внутреннюю безопасность. Заниматься же этим нужно, потому что АСММ в мире сегодня востребованы, к этому направлению обратились многие страны.
Что касается программы «Прорыв», мы вовлечены в экспертное обсуждение новых проектов пока сравнительно небольшим составом. С нашей стороны действуют эксперты по экономике, по строительной и экономической части везде, где мы хорошо разбираемся в вопросе и вправе давать рекомендации. После наших выступлений на НТС Росатома программа реализации была скорректирована, начаты работы по аттестации дополнительных кодов для обоснования безопасности. Это касается в первую очередь экспертизы проекта БН-1200, по результатам которой ОКБМ, как главный конструктор, ведет доработку проектной документации.
Оптимизация топливного цикла для действующего парка реакторов – одно из самых востребованных направлений работы в мире, такой мощный и чистый источник энергии, как ядерный реактор, должен находиться в работе как можно дольше. Необходимо отметить, что мы лишь часть команды, которая направила усилия на совершенствование топливного цикла. Внедрение 18-месячного топливного цикла на реакторах ВВЭР-1000, впервые осуществленное на Балаковской АЭС, сегодня уже стало нормальной практикой эксплуатации аналогичных реакторных установок в России. Планируется дальнейшая работа по разработке двухлетнего (24-месячного) топливного цикла, принципиально нового. Уже очевидно, что для сохранения запаса реактивности на всем протяжении топливной кампании потребуется увеличенное обогащение по урану-235. Придется обосновывать изменение систем защиты, повышать концентрацию поглотителя в механических органах регулирования, внедрять новые выгорающие поглотители (например, выгорающий эрбий по всему объему топливных элементов). Отмечу, в отрасли работа с выгорающим эрбием в РБМК уже проделана и оправдала себя, расчетчики освоили этот инструмент.
– Понятно, что проекты такого уровня сложности затрагивают кооперацию даже за пределами контура Госкорпорации. Какова роль ВНИИАЭС при взаимодействии столь сложных команд?
– Наш институт важен и нужен именно той исторически приданной нам функцией – осуществлять постоянную смычку «города и деревни», крупнейших отраслевых институтов, теоретиков, разработчиков, расчетчиков, проектантов и тех, кто работает на местах, в эксплуатации АЭС. Все ради того, чтобы люди с мест привносили свои знания для улучшения новых проектов. Эта роль продолжается и сегодня: по всем направлениям эксплуатации ведется привлечение людей с мест. Более десяти процентов работников нашего института – это специалисты с конкретным опытом на АЭС.
Передача опыта – это общее определение. Конкретнее роль ВНИИАЭС можно обозначить как профессиональную, внутриведомственную экспертизу проектных решений. Государственная экспертиза оценивает базовые, общестроительные и экономические аспекты здания (сооружения), но не может проникнуть в аспекты применимости решений в эксплуатации. Есть экспертиза Ростехнадзора для получения лицензии, но она работает не на коррекцию проектов, а на выявление недостатков. Если внутренней экспертизы проекта не было, его ждет длинный перечень замечаний, увеличенное время доработки, пересчет сроков и стоимости. Но, делая свою внутреннюю экспертизу качества проекта, можно сдавать проекты для получения лицензии в лучшем виде и качестве. Вот это и есть главная функция, которую ВНИИАЭС нужно реализовать в полном объеме.
Существует расхожий миф, что «вот в советское время экспертиза проводилась, а теперь только формальности», но это не совсем так. Именно сегодня, опираясь на такие новые инструменты, как «виртуально-цифровая АЭС», аттестованные коды, можно и нужно выполнять обоснования безопасности. Такие экспертизы можно делать по нескольким независимым системам кодов, перепроверяя друг друга: совпадают ли выкладки у проектанта, заказчика, научного руководителя, надзора? Если да, можно идти за получением лицензии не как за лотерейным билетом. Именно такой внутриведомственной экспертизы раньше не было, ее можно и нужно создать.
Алексей Комольцев для журнала РЭА