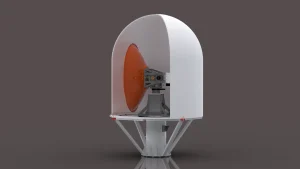О том, что такое цифровая трансформация в энергетике, можно ли рассчитывать на благополучное будущее, держась исключительно за тёплые ламповые традиции большой энергетики, и какие задачи предстоит решать департаменту цифровой энергетики и коммерческого диспетчирования, в интервью журналу РЭА рассказала Любовь Андреева – руководитель этого нового подразделения.
– Что же такое цифровая энергетика и зачем она нам нужна?
– Вариантов ответа на этот вопрос много. Но это точно не автоматизация в электроэнергетике. Предлагаю такое определение: цифровая энергетика – энергетика, в которой радикально изменились отношения между производителями и потребителями электроэнергии из-за появления новых доступных для каждого технологий: коммуникационных, информационно-вычислительных, электронных, измерительных. Потребитель электроэнергии перестает быть «пассивным элементом» и хочет повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии без роста цен на нее. А генерирующие и сетевые компании вынуждены повышать эффективность своей работы и формировать отношения с потребителем иначе.
Отмечу отличие между «цифровой энергетикой» – некая точка, в которую мы должны прийти, это целевое состояние – и цифровой трансформацией электроэнергетики – это траектория, по которой происходит движение к цели, это процесс перехода из сегодняшнего состояния в будущее.
Термин «цифровая трансформация электроэнергетики» или «энергетический переход» часто связывают с «тремя D» процессами изменения отрасли: Decarbonization, Decentralization, Digitalization. То есть снижение выбросов углекислого газа, децентрализация и цифровизация.
В нашей стране пока не сформировался устойчивый спрос на экологичные решения, борьбу с изменением климата, поэтому первая из трех D пока не очень востребована: снижение выбросов диоксида углерода не в приоритете. При этом АЭС здесь как раз в тренде, как и ветряная энергетика Росатома.
И вторая «D» – децентрализация. Потребители электроэнергии уже сегодня получают финансовые стимулы уходить из единой энергосистемы. По данным разных профильных источников нашей стране уже 8–11% генерации–распределенная энергетика, то есть небольшая генерация, которая работает на конкретных потребителей вне энергосистемы и рынка. Это газопоршневые и газотурбинные установки, по несколько мегаватт. Потребители отказываются от централизованного электроснабжения, так как не хотят платить по механизмам перекрестного субсидирования, не хотят платить за транспорт электричества, если подключены практически напрямую к какой-нибудь электростанции. Для крупных электростанций это плохой сигнал, ведь уход потребителей из единой энергосистемы приводит к отсутствию роста или даже снижению потребления электроэнергии. Когда 2010 году формировался прогноз потребления электроэнергии в стране на 2018 год, он был на 11% выше того факта, который у нас сегодня. Для АЭС как базовой генерации это говорит о риске ограничений мощности в перспективе.
В этом же вопрос – децентрализации энергетики – необходимо упомянуть не только о растущей распределенной генерации, но и о развитии технологий накопления энергии. По словам заместителя председателя правления Роснано Юрия Удальцова, в недалеком будущем «электроэнергетика должна радикально изменить свой образ – миф о том, что электроэнергию нельзя хранить, рано или поздно рухнет, и накопители станут играть значительную роль в энергосистемах».
А вот третья «D», цифровизация – в нашей стране является двигателем многих изменений. Иногда, правда сам процесс цифровизации зтмевает цели это цифровизации. Но чтобы этого не было, надо всегда понимать, какие цели могут быть и будут достигнуты с помощью инструмента.
– Что движет цифровой трансформацией электроэнергетики и какие у нее причины?
– Цифровизация– «это не цель, и даже не средство». А цифровая трансформация – это процесс перехода из одного состояния в другое, в целевое. Ради чего этот переход вообще происходит? Переход происходит «не ради чего-то», а из-за того, что, повторюсь, не только в нашу жизнь, но и в производство, в энергетику стремительно входят доступные цифровые технологии. Они, эти технологии, вносят изменения. И либо мы ими управляем, либо они управляют нами и мы плывем по течению, снижая свою конкурентноспособность. В нашей компании цифровая трансформация обязательно должна работать на достижение целей компании – безопасная работа АЭС, выручка от продажи электроэнергии и мощности, увеличение доли выработки АЭС в единой энергосистеме России. Нам необходимо находить или разрабатывать решения и технологии, которые либо обеспечат более эффективное достижение целей компании, либо расширят зону нашего бизнеса, открывая новые рынки и бизнесы.
– Чем будет заниматься ваше подразделение и зачем вообще нужен отдельный Департамент цифровой энергетики?
– Департамент формирует инициативы и реализует проекты Концерна в рамках уже происходящей цифровой трансформации электроэнергетики. Речь о том, что энергосистема, как и другие отрасли в России и мире, изменяется благодаря внедрению новых технологий и новых требований со стороны потребителя. Нам важно найти, оценить и реализовать те инициативы, которые необходимы для эффективной работы генерирующей компании, а также определить те риски, которые у нас возникают из-за внешних изменений.
Когда у компании появляется новая задача – в данном случае это задача по адаптации к происходящей в отрасли цифровой трансформации – можно либо дать ее как дополнительную работу существующим подразделениям, либо выделить специальную структуру. Развивать тему цифровой энергетики в качестве «факультатива» вряд ли можно эффективно. Кроме того, департамент занимается не только цифровой энергетикой. В подразделении три направления: новое –цифровая энергетика; два ранее существующих –коммерческое диспетчирование АЭС, в рамках которого продаются электроэнергия и мощность на рынке, и технологическое присоединение – подключение к электрическим сетям новых энергоблоков АЭС.
– Что делать крупным электростанциям? И как планирует действовать Концерн для построения цифровой энергетики?
Готовых инструкций «что делать электростанциям» пока не существует. Есть опыт в нашем основном деле – в строительстве и эксплуатации АЭС, есть опыт зарубежных партнеров, в странах в которых раньше начался так называемый «энергетический переход» (energy transition).
Ответ на этот вопрос и простой, и сложный: надо меняться. Об этом говорил в апреле генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на Стратегической сессии по цифровой трансформации. Меняться как нам самим – людям нашей компании, так и нашим производственным и бизнес-процессам.
Например, французская крупнейшая государственная компания-оператор атомных электростанций «Электрисите де Франс» (EDF) уже в прошлом году опубликовала стратегию под названием CAP-2030. Цели EDF перейти к 2030 году в цифровую энергетику со следующими результатами: генерация на возобновляемых источниках энергии – 40 ГВт, трехкратное увеличение суммы зарубежных контрактов по сооружению электростанций, прямое взаимодействия с конечными потребителями энергии (не менее 35 млн. потребителей).
Наша компания будет действовать в рамках Стратегии цифровой трансформации Росатома, когда такой документ будет принят, а пока работаем в соответствии с Дорожной картой Цифровой энергетики и Цифровой экономики, которая была утверждена 8 июня 2018 на заседании Совета по цифровизации Концерна. В Дорожной карте определены технические, технологические и организационные мероприятия и проекты, выполнение которых точно приблизит нас к целевой модели цифровой энергетики.
– Какие проекты, которые входят в сферу цифровой энергетики, уже реализуются в Росэнергоатоме?
– В дорожной карте цифровой энергетики и цифровой экономики Концерна определены проекты по созданию прототипа и пилота цифрового распределительного устройства АЭС. Это аналог технологии «цифровая подстанция», но на электростанции. Целью является изучение новых технологий, получение опыта, разработки технико-экономической модели такого проекта для существующих и сооружаемых АЭС.
Есть интересный проект по созданию ситуационно-аналитического центра коммерческого диспетчирования АЭС на уровне генерирующей компании. В нем две «фишки» – современные технологии визуализации данных и разработка цифрового советчика, чем-то напоминающего чат-бота, но шире по задачам. Этот центр будет расположен в офисе центрального аппарата и будет введен в эксплуатацию в начале лета следующего года.
Концерн один из первых взял курс на развитие технологии векторных измерений электротехнических параметров работы АЭС. Она активно используется в ряде европейских стран для эффективного управление энергосистемой и диагностики состояния электрического оборудования, а также для расчета в реальном времени значения пропускной способности линий электропередачи. Для Концерна это не только инструмент диагностики состояния оборудования, но и система верификации модели АЭС в энергосистеме. Кроме того, технология векторных измерений позволяет верифицировать данных систем коммерческого учета электроэнергии и систем телеметрии, по которым производится оплата за электроэнергию и за мощность АЭС, соответственно.
Важной частью цифровизации нашей компании является выполнение ведомственной программы Цифровой трансформации электроэнергетики, курируемой Минэнерго России. Здесь за Концерном закреплено обязательство по созданию и вводу в работу прототипа системы диагностики и прогнозирования состояния электротехнического оборудования АЭС. Этот проект выполняется в рамках инициативы Минэнерго по переходу к ремонтам оборудования по состоянию (так называемый риск-ориентированный подход к эксплуатации), взамен зачастую избыточных ежегодных плановых ремонтов. Конечно, эта инициатива требует изменений большого количества нормативных отраслевых и корпоративных документов, определяющих подход к ремонтам оборудования. Но этот процесс уже стартовал во всей отрасли.
Другая актуальная инициатива Минэнерго – переход с 2018 года на оценку готовности субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду (ОЗП) на основе индексов информационных потоков от АЭС и генерирующей компании.
Очень важным направлением работ видим проект «цифровой сбыт». Это купля-продажа электроэнергии и теплоэнергии на оптовом и розничных рынках посредством использования систем обработки больших данных и поддержки принятия решений, технологий распределенного реестра, перехода на электронные торговые площадки и договоры на рознице, внедрения цифрового права в отношения субъектов купли-продажи. Цифровой сбыт имеет более высокую эффективность по сравнению с обычным за счет снижения влияния человека на результаты купли-продажи, снижения транзакционных издержек, трудозатрат на оформление договоров, за счет наличия в реальном времени аналитики поведения и платежеспособности потребителей энергии. Очень важно, что отношения между продавцом и покупателей энергии станут прозрачнее, а значит, повысится уровень доверия друг к другу.
Для Концерна цифровой сбыт электроэнергии на оптовом рынке заработает максимально эффективно одновременно с созданием цифровых двойников на вновь веденных энергоблоках АЭС, потому что именно новые блоки приносят максимальный вклад в выручку компании, но и максимальные финансовые потери при неплановых и аварийных остановах. Эксплуатации АЭС на основе цифрового двойника АЭС поможет выстраивать более точную работу на рынках из-за наличия вероятностных значений отказов, прогнозов ограничений мощности АЭС, оценки финансовых рисков при различных режимах работы генерации и сетей.
– Цифровая экономика – инициатива «сверху», от правительства; в энергетике это тоже так?
– Действительно, процесс цифровой трансформации во всех отраслях экономики идет в основном с одной стороны – сверху. В отчете «Глобальный энерегетический переход» Мирового энергетического совета (World Energy Council) однозначно в выводах написано, что ключевым двигателем изменений в электроэнергетике является энергополитика государства. Однако в электроэнергетике, как уже говорила, «революция» идет и снизу: потребители устали от роста цен на электроэнергию, устали от бесконечно долгого и крайне дорого подключения к электрическим сетям. Потребители без всякой нормативной базы начинают инвестировать в распределенную энергетику.
И важно понимать, что если все участники отрасли начали цифровизироваться, как следствие, повышать свою эффективность работы, менять свое поведение, то попытаться остаться в стороне от этого процесса – это значит проиграть. Из двух вариантов «ничего не делать и проиграть в будущем» или «активно встроиться в процесс и стать лидерами» наша компания, очевидно, выбирает второй.
Алексей Комольцев для журнала РЭА